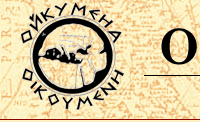



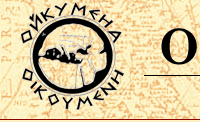 |
 |
 |
 |
|
В декабре 2012 г. известный ученый, автор многих исследований в области археологии, антропологии, политической науки и теории международных отношений, специалист по проблемам методологии социогуманитарного познания, ныне – профессор кафедры международных отношений ШРМИ ДВФУ Анатолий Михайлович Кузнецов отметил свое 60-летие. Накануне юбилея Анатолий Михайлович дал интервью ответственному редактору «Известий Восточного института» Антону Александровичу Кирееву.
Киреев А. А.: Поскольку мы проводим это интервью в преддверии вашего юбилея, то первый вопрос, который я считаю необходимым задать, касается основных этапов, ключевых вех вашей научной биографии. Кузнецов А. М.: Придется начать издалека. Не знаю, как так случилось, но, сколько себя помню, всегда хотел заниматься только наукой. Где-то в классе четвертом были размышления, чем же заниматься – чистой археологией или все-таки древней историей. Эти сомнения, в конечном счете, и привели меня на историко-правовой факультет ДВГУ. В 1969 г. на отделение истории, на которое набирали всего 25 человек, было подано 214 заявлений. Сейчас трудно представить, но других востребованных гуманитарных специальностей, таких как политология, философия, социология, тогда в наших региональных университетах еще не было. Поэтому все, кто имел склонность к обществознанию, шли на историю. Отсюда и такие конкурсы. Здесь, конечно, следует вспомнить с благодарностью школу. Я, наверное, один из немногих, кто прошел всю нашу систему среднего образования, потому что я учился в начальной школе, восьмилетней школе, а заканчивал уже среднюю школу. Поскольку это были гарнизонные школы пос. Раздольное, то у нас никогда не было проблем с учителями. Все велось на очень высоком уровне, в т.ч. английский язык, поэтому не случайно, что более 80% выпускников нашей школы сразу поступали в вузы. Это, очевидно, позволило мне получить на вступительных экзаменах 19 баллов из 20 и выдержать серьезный конкурс на исторический факультет. Низкий поклон таким моим учителям, как преподаватель русского языка и литературы Миронова Антонина Захаровна. К моменту поступления на исторический факультет я уже однозначно ориентировался на археологию. При этом наш университет еще археологов не готовил. Это была непрофильная специальность, но как-то удалось добиться решения на специализацию по археологии. На первых курсах после блестящих, ярких лекций Д. Л. Бродянского очень многие загорелись заниматься археологией, но потом, после первой полевой практики, у большинства этот порыв как-то сразу пропал. Однако, поскольку для меня не было проблемы отождествления науки с конкретными личностями, то я смог при поддержке Э. В. Шавкунова продолжить свои занятия. Я считаю, что это было удачно, что в начале своей деятельности я занимался именно археологией. Во-первых, это была свобода в некоторой степени от идеологического прессинга. Во-вторых, это была еще и возможность получить стажировку в ведущих научных центрах нашей страны, поскольку все понимали, что здесь у нас уровень профессиональной подготовки недостаточно высок. Как раз ко времени окончания нами университета в 1974 г. шло развертывание Дальневосточного научного центра (ДВНЦ) Академии наук СССР. Тогда Отдел истории был преобразован в Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВНЦ АН СССР, и я получил распределение в этот Институт. Ввиду того, что Отделение и Институт только становились на ноги, были заключены договоры с ведущими академическими центрами нашей страны для прохождения сотрудниками ДВНЦ стажировок. В свое время в Академии наук с этой целью была даже создана специальная должность – стажер-исследователь. Перед началом самостоятельных исследований, основная ставка была сделана именно на «дообразование» путем стажировок. Полагаю, что этот опыт использован и при создании Дальневосточного и других федеральных университетов. Но в новых условиях появились хорошие возможности стажировок за рубежом. Я же свою первую стажировку проходил в 1975 г. в Приленской археологической экспедиции у такого хорошего специалиста и яркой личности, как Ю. А. Мочанов. За три месяца экспедиционные маршруты охватили значительную часть Восточной Сибири и Якутии, включая Бодайбо и Мирный. Мне очень повезло, так как буквально на следующий год после поступления в Институт истории меня направили в качестве стажера в наш ведущий археологический центр по изучению проблем каменного века – в сектор палеолита Ленинградского отделения Института археологии АН СССР. Ленинград тогда был действительно одним из ведущих центров, и не только в области археологии. Кроме того, середина 70-х гг. была по-своему замечательной порой, когда можно было еще непосредственно общаться с теми людьми, которые закладывали нашу науку в 30-е и последующие годы. Я считаю знаковым моментом, что мне довелось тогда общаться с такими нашими стадиалистами, как Павел Иосифович Борисковский, и видеть Петра Николаевича Третьякова. Ведь стадиализм – это было то направление нашей археологической теории, которое очень серьезно обсуждалось за рубежом и рассматривалось как определенный вклад в развитие мировой археологии. Кроме того, благодаря этой стажировке можно было общаться с ведущими специалистами и посещать лекции в Ленинградском университете. Все вместе – эти доклады, лекции и общение – создавали такую неповторимую школу, которую у нас в университете пройти было невозможно. Поэтому, когда мне рассказывают, как два местных деятеля заспорили, чей я ученик, я однозначно понимаю, что один меня научил лишь, как не надо работать со студентами, а другая показала, чего не нужно делать в науке. А вот Ленинграду, ленинградским учителям я благодарен, потому что именно они помогли войти в «большую науку». Скажем, общение с патриархом нашей науки Василием Прокофьевичем Любиным, который до сих пор еще активно работает, несмотря на свой грядущий 95-летний юбилей, - это такая школа преданности науке, самого беззаветного служения ей, равную которой трудно найти. Или при всей противоречивости такая фигура, как Лев Самойлович Клейн, теоретик мирового уровня, которого тогда уже чаще печатали зарубежные издания, чем наши советские. В Ленинграде меня и взял в свою Кавказскую экспедицию В. П. Любин. Мало того, что за два месяца маршруты нашей экспедиции снова прошли от Адыгеи до Нагорного Карабаха, мы работали на памятниках, оставленных неандертальцами, посетили уникальную Азыхскую (Азохскую) пещеру, в которой около 1 млн. лет назад жили архантропы, но я на экспедиционной машине еще проехал от Ленинграда до Майкопа. Такие экспедиции и поездки позволили мне непосредственно понять, насколько велика наша Родина, и как многообразен этнический состав населения нашей страны. Затем была аспирантура. Правда, поскольку мне тогда пришлось уйти из Института истории (я дошел здесь до апогея научной карьеры – был отправлен на курсы трактористов), то я потерял целевое место. Поэтому поступал только в заочную аспирантуру, туда же в Ленинградское отделение. Тем не менее, раз в год у меня был месяц, когда я мог снова приезжать в Ленинград, мог общаться с нашими специалистами и аспирантами и получать ту информацию, которая проходила мимо меня за остальные месяцы. Здесь меня радушно принимало старшее поколение аспирантов Сектора палеолита – Х. А. Амирханов из Дагестана (ныне член-корреспондент РАН. После работы в Москве он сейчас возглавил Дагестанское отделение РАН), М. В. Аникович из Томска и И. А. Борзияк из Кишинева, А. А. Синицын из Пушкина. Их не только высокий профессионализм, но и знакомство с художниками и писателями ленинградского андеграунда немало повлияли на мое формирование как ученого. Не знаю почему, но я тогда уже запомнил брошенное вскользь замечание Андрея Синицына про одного своего знакомого: «Его уровень такой, что ему все равно, чем заниматься – археологией или чем-нибудь другим». К сожалению, И. А. Борзияк и М. В. Аникович уже ушли из жизни. Пользуясь случаем, воздаю дань их памяти. Как раз в Ленинграде определилось мое понимание, что наука – это явление не местечковое, а интернациональное. Как сейчас помню, первый вопрос, который мне был задан при встрече с П. И. Борисковским, заведующим Сектором палеолита: какими иностранными языками владеете? Поэтому, не зная того, чем занимаются коллеги в других странах, работать практически невозможно. Так что я начал учить французский язык, на котором тогда писали все классики мирового палеолитоведения. До сих пор жалею, что из-за отсутствия практики потерял этот язык. Кроме того, именно в Ленинграде стало понятно, что «большая наука» – это «большая теория», и без теоретических разработок ни о чем серьезном говорить не следует. Поэтому, вернувшись снова в Приморье, благодаря этому полученному импульсу я, руководствуясь теми рекомендациями, которые были даны, смог продолжить занятия и системной теорией, и проблемами методологии научного познания в целом. Но, что очень существенно, это совмещалось с сугубо практическими, экспедиционными работами. Я считаю для себя также важным то, что археология давала ощущение непосредственной предметной реальности прошлого, без общения с которой очень легко можно было скатиться к каким-то умозрительным заключениям. Поэтому важно эти комплексы, эти артефакты не только анализировать, описывать, но и стремиться при этом постигнуть их реальный смысл, а не то, какие ассоциации они у нас вызывают. Конечно, археология это очень трудоемкое занятие, которое требовало много времени на рутинную работу, связанную с составлением отчетов. Тем не менее, она позволяла какие-то теоретические идеи, которые почерпнуты были из других областей знания, преломить через данную конкретную область для того, чтобы их верифицировать. Однако затем общение с местными коллегами-археологами, показало, что, к сожалению, у них есть очень существенный изъян, а именно в интерпретативной части науки. Многие археологи просто остаются специалистами своих памятников и дальше этого их интересы не идут. Не случайно, в свое время академик И. И. Мещанинов справедливо указал, что иногда археологи думают, что они могут «властвовать над древним человеком как над бессловесным скотом». А, на мой взгляд, существовала серьезная проблема как раз с интерпретацией археологического материала с культурно-исторической точки зрения. Это задача очень сложная, и она потребовала более глубокого изучения проблем культуры. Должен сказать, что в 70-е гг. эта проблематика в СССР если и не находилась под явным запретом, то не приветствовалась. Однако, благодаря периферийному положению Приморья, здесь это можно было делать. Как я уже отмечал, мой профессиональный рост в Институте истории ДВНЦ был замечен, и я получил назначение на курсы трактористов. Так как подобная перспектива ставила под угрозу проведение самостоятельных экспедиционных работ, то пришлось искать другое место. На тот момент открылся исторический факультет в Уссурийском педагогическом институте, и я получил приглашение перейти на этот факультет. Поскольку после Ленинграда мне ошибочно показалось, что большой разницы между Владивостоком и Уссурийском нет, я принял приглашение. Ранее я не предполагал заниматься преподаванием, но теперь вот пришлось. Работа в педагогическом институте существенно отличалась от того, что я узнал в университете и тем более в Академии наук. Здесь поневоле пришлось снова осваивать уже на другом уровне историю древнего мира и другие исторические эпохи. Археология теперь оставалась в основном для летних практик. В процессе же преподавания истории по принятым в то время обобщенным формационным и другим предельно социологизированным схемам, я обратил внимание на слабую разработанность проблемы о роли человека («субъективного начала») в истории. Кроме того, волею судеб и распределения в Уссурпеде постоянно оказывались выпускники университетов из других регионов России. Общение за пределами профессионального круга с философами и психологами открывало новые грани истории. Поэтому постепенно я уклонялся от чистой археологии в сторону культурологической проблематики. Поскольку же стало ясно, что культура – это явление не самодостаточное, существующее не само по себе, необходимо было перейти в область, которая сейчас и у нас определяется как антропология. Социальная (культурная) антропология занималась проблемами теории культуры и культурного многообразия, и это позволяло накладывать археологический материал на более прочную основу. После завершения работы над докторской диссертацией, которая хотя была археологической, как раз рассматривала проблему выделения реальных групп памятников, имеющих широкое территориальное распространение, и пыталась выявить причины этого явления, появилась возможность для более углубленного занятия проблемами антропологии. Новая задача оказалась очень серьезной и переключила все время на себя. В это время в ДВГУ мой университетский товарищ М. Ю. Шинковский создавал Владивостокский институт международных отношений. Поскольку я был уже доктор наук, он пригласил меня снова вернуться в университет. Работа в Уссурийске сформировала меня как преподавателя, общегуманитарная и теоретическая эрудиция позволяла освоить новые сферы деятельности, и я вернулся в 1997 г. в ДВГУ. По мере того, как становились более понятными вопросы культурного многообразия и другие актуальные антропологические вопросы, все это начало фокусироваться на этнической проблематике. И тут – счастливый случай или судьба. Как раз было время празднования столетнего юбилея со дня основания нашего университета, тогда еще ДВГУ. Во время подготовки к этому празднованию из архивных документов появилось имя Сергея Михайловича Широкогорова, который имел прямое отношение к нашему университету. В связи с этим пришлось заниматься научным наследием Сергея Михайловича и его теорией этноса. Когда стало понятно все значение этой теории, которая еще в первой трети ХХ в. вбирала в себя основные поиски в области исследований культуры, археологии, антропологии, то пришлось более основательно заняться теорией этноса. До сих пор считаю, что теория этноса – это мощнейшее интеллектуальное достижение, которое было сделано, прежде всего, в нашей стране и, прежде всего, С. М. Широкогоровым. По мере того, как проблемы этноса занимали все большее место, стало очевидно, что в современных условиях этнические явления не существуют в отрыве от политических. Тогда в связи с тем, что пришлось работать в Институте международных отношений ДВГУ, возникла необходимость заняться изучением политологии, чтобы понять связь между антропологией, теорией этноса и политикой. Оказалось, что эта связь выражается в проблеме нации. Работа над тем, что такое нация, привела к пониманию значения такой области знаний, как этнополитология, которая до сих пор, на мой взгляд, до конца не оценена. Тем не менее, у нее бесспорное будущее, если, конечно, она получит серьезные концептуальные основания. Ну а проблема нации повлекла за собой необходимость вникнуть в отношения между разными нациями. А это уже область международных отношений. Поэтому следующим этапом закономерно явилось изучение проблем международных отношений, над которыми пытаюсь работать и сейчас. Киреев А. А.: Вы предвосхитили мой следующий вопрос относительно основных сфер вашей профессиональной деятельности, тех областей науки, в которых вы работали. Поэтому я бы перешел к вопросу о значимости дисциплинарного деления науки как такового. С вашей точки зрения, что оно дает ученому, исследователю, а в чем, быть может, напротив, его ограничивает? Кузнецов А. М.: Я считаю, что это очень своевременный вопрос. Благодаря тому, что мне самому пришлось предпринять такой дрейф по разным областям знания, могу на собственном опыте сделать некоторые заключения по этому поводу. Прежде всего, научная специализация, характерная для современного состояния науки, в условиях информационного взрыва, когда каждая научная область накопила такое количество информации, которое уже невозможно усвоить ни одному специалисту, неизбежна. Отсюда это дробление на частные дисциплины. Однако мы забываем о том, что процессы специализации должны идти параллельно с процессом интеграции, потому что если этого не происходит, то тогда, как в свое время предупреждал незабвенный К. Маркс, появятся «философы волос, философы ногтей» и т.д. На мой взгляд, это чрезмерное стремление к специализации – сам по себе путь тупиковый, потому что в итоге мы знаем досконально о каких-то конкретных вещах, но теряем общую картину. Это чревато снижением общественного признания науки, кризисом сциентизма и многими другими неприятностями, что является реальностью сегодняшнего дня. Развитие всякого рода паранауки и т.п. – все это неизбежные спутники чрезмерной научной специализации. Тогда возникает вопрос: как же достигнуть интеграции и можно ли добиться ее в этих условиях. Ответ может быть, по моему мнению, только один: необходимую интеграцию нам может обеспечить только глубокая и сильная научная теория. Поэтому тщательное изучение каких-то конкретных областей должно постоянно сопровождаться теоретическим поиском, осмыслением того, каким образом эти конкретные явления соотносятся с другими и с более общими тенденциями и процессами. Если удастся этого добиться, то вот тогда можно говорить и о подлинной научности. В связи с этим, говоря о том, почему мне удалось совершить этот дрейф из разных областей науки, я думаю, что только благодаря постоянным занятиям общенаучной теорией и вдобавок возможностям верифицировать теоретические положения в разных областях знания. Это давало возможность увидеть конкретную проблематику определенной научной отрасли в таком плане, который позволял задействовать весь предшествующий опыт работы в других дисциплинах и каждый раз сказать некое свое слово. Сегодня процесс специализации должен сопровождаться интеграцией за счет развития теории. На мой взгляд, это то направление, которое может обеспечить нормальное развитие науки в современных условиях. Киреев А. А.: Мы говорили о предметных или проблемных областях исследования, тех областях, которыми вы занимались. Теперь хотелось бы обратиться к методологической стороне научных исследований, к тем подходам, которые в них используются. Прежде всего, речь идет о двух подходах: системном и антропологическом. Эти подходы часто противопоставляются друг другу и даже рассматриваются кем-то как несовместимые. Однако в ваших исследованиях они присутствуют в равной мере и используются достаточно активно. С вашей точки зрения, как эти методологические средства соотносятся друг с другом? Насколько они могут взаимодействовать и взаимодополнять друг друга? Кузнецов А. М.: Поскольку, Антон Александрович, мы работаем с вами в близких парадигмах, то ваш вопрос очень созвучен и моим представлениям о том, что сегодня должно обсуждаться в научном сообществе, как наиболее приоритетные задачи. Хотелось бы отметить, во-первых, что сегодня наука, особенно социально-гуманитарная, на мой взгляд, переживает глубокое теоретико-методологическое «одичание». Ведь теория и методология – это те области, которыми, прежде всего, охотно пренебрегают наши коллеги. Отсюда уровень теоретико-методологической культуры многих «научных работников» оставляет желать много лучшего. Даже некоторые известные у нас специалисты стремятся к упрощенчеству: самое главное для них – найти некие простые средства, которые бы позволили решать конкретные задачи. Это, на мой взгляд, очень опасная тенденция. Кроме того, существует еще тенденция к отрыву методологии от теории, когда методология понимается просто как набор каких-то методов. На мой взгляд, это очень опасное заблуждение, потому что методы играют очень важную роль, но как и при каких обстоятельствах следует их использовать, нам может сказать только теория. Далее, вы правы в том смысле, что сегодня эта тенденция к специализации, к редукционизму проявляется и в том, что, скажем, системную парадигму отрывают от антропологических подходов и т.д. На мой взгляд, именно такая позиция определила кризис теории политической системы и многих экономических построений, потому что они пытались выстраивать свои схемы, игнорируя участие в них человека. Благодаря своему конкретному профессиональному опыту я понял, что нужно не обособлять предметные отрасли от антропологии, а искать пути, которые позволяли бы их соединять. По моему мнению, на сегодня ничего лучше системной методологии для того, чтобы осуществлять интеграцию, так и не создано. И ее аппарат, только используемый корректным образом, в применении к области социально-гуманитарных наук немыслим без антропологической составляющей. Потому что, только учитывая присутствие человека, понимая его характерные свойства и качества, мы можем понять результаты деятельности многих людей, которые суммируются в виде культуры, общества и других образований макроуровня. Поэтому не противопоставление, а компетентное соединение возможностей системной парадигмы и антропологического знания – это то, что может создать сильные современные концепции для решения актуальных проблем в области социальной и гуманитарной науки. Киреев А. А.: Тогда в продолжение предыдущего вопроса, хотелось бы спросить, можно ли рассматривать отношения этих подходов как некую субординацию, т.е. можно ли говорить, что один из этих подходов включает в себя другой. Или их отношения все-таки имеют какой-то иной характер? Кузнецов А. М.: Вот, по-моему, в чем значение такого набирающего сегодня популярность у специалистов по международным отношениям и политологов направления, как «анализ конкретных ситуаций» (то, что за рубежом принято называть «case-study»), когда мы берем какую-то конкретную проблему, ситуацию, и пытаемся ее проанализировать. Хотя этот анализ очень часто принципиально анти-теоретичен, его значение заключается в том, что он показывает, что на конкретном уровне существует многообразие ситуаций, которое предполагает адекватное применение к ним теоретико-методологических средств. Это влечет за собой очень важный вывод о том, что нет никаких универсальных методологий, никаких универсальных теорий. У каждого метода, у каждой теории есть свои границы, и очень важно о них не забывать. Это значит, что в определенных ситуациях может играть ведущую роль та же системная методология, но в других ситуациях антропологические подходы будут первичны по отношению к ней. Поэтому, на мой взгляд, очень важно знать границы возможностей методов и теорий, видеть многообразие реальных ситуаций и то, каким образом они могут между собой быть связаны. Это, конечно, очень сложно. Это требует больших затрат. Тем не менее, это единственный путь для того, чтобы теория не отрывалась от решения практических задач, и чтобы практические задачи решались не в угоду каким-то сиюминутным выгодам, а с учетом возможной перспективы и последствий, которые повлекут те или иные конкретные действия. Киреев А. А.: Мы уже отчасти касались ваших занятий этнологией, разработкой проблем этой науки, и в т.ч. теорией этноса. Если говорить о современном положении вещей в этнологической науке, с вашей точки зрения, какие вопросы составляют ее нынешнюю повестку дня, и какие вопросы будут определять ее развитие в будущем. Кузнецов А. М.: Заданный вами вопрос примечателен вот в каком смысле. Этнология (вообще-то я предпочитаю определять ее как социокультурную антропологию) – это поле, которое очень противоречиво по своей природе. С одной стороны, это очень конкретное поле эмпирических исследований, которые связаны с экспедиционной деятельностью, а также со спасательной функцией (когда общности со своей культурой исчезают, и все это нужно успеть зафиксировать, чтобы сохранить хотя бы в таком виде). С другой стороны, современная антропология и этнология переживают сегодня серьезный кризис в попытках определения своих оснований. Так, в основании этнологии лежит этнос, а попытки объяснить, что такое этнос, этническая общность, сегодня не дают результата. Мы имеем массу взаимоисключающих точек зрения, в которых невозможно что-либо понять. Не случайно, как сказал один исследователь, если концепт описывает все, то он ничего не описывает. На мой взгляд, теория этноса – это замечательный пример теории, которая выходит за рамки конкретной дисциплинарности и имеет гораздо более широкое применение. За счет чего? За счет того, что в теории этноса, особенно в первоначальном варианте С. М. Широкогорова, использованы принципы системной методологии. Вместе с тем, в нее включены очень важные характеристики, касающиеся самого человека и тех общностей, которые он создает в процессе своей истории, своей жизнедеятельности. В результате именно теория этноса обладает очень высоким эвристическим потенциалом, который дает возможность решать конкретные проблемы не только антропологии и этнологии, но и других дисциплин социально-гуманитарного цикла. Другое дело, что этнология, особенно в нашем варианте, отрекается от теории этноса и, как я думаю, именно в силу ее очень высокого эвристического потенциала. Ведь для того, чтобы овладеть теорией этноса, необходимо обладать компетенциями из других областей знания. Опора только на антропологические (этнологические) компетенции полноценно овладеть этой теорией не позволяет. Отсюда это противоречие, которое мы обрисовали. Оно характерно не только для данной области. Это общая проблема соотношения конкретного и теоретического уровня в современных социально-гуманитарных науках. Киреев А. А.: Если я правильно понимаю, проблему этноса следует считать общей проблемой всех социальных наук, а не только этнологии как таковой? Кузнецов А. М.: Вы правы. Потому что значение теории этноса в том, что она позволяет описывать не только, скажем, привычные объекты этнологии и антропологии, т.е. доиндустриальные, традиционные общности и т.п. Теория этноса позволяет описывать все общности. Кроме того, теория этноса включает в себя социальные, культурные и другие компоненты и представляет собой синтез составляющих общественной жизни. Именно поэтому она имеет более высокий потенциал, чем концепции каких-то конкретных дисциплин. Киреев А. А.: Следующий блок вопросов касается более общих тем, может быть, более абстрактных, но, на мой взгляд, тоже заслуживающих освещения. С вашей точки зрения, как можно оценить общее состояние социогуманитарной науки в нашей стране сегодня? Насколько существенны те изменения, которые произошли в нашей науке и с нашим ученым сообществом на протяжении последних двадцати лет? Каковы ваши наблюдения? Кузнецов А. М.: Да, вопрос, конечно, глобальный. Поэтому я за состояние данной области знаний в целом ответственность все-таки бы на себя не взял, но вот по поводу некоторых ситуаций я мог бы кое-что сказать. Прежде всего, положение с наукой, особенно социально-гуманитарной, в нашей стране вполне понятно. Мы еще не пережили этап слома, связанный с отказом от марксизма как единственно верного основания всего научного знания, и не пришли к каким-то новым ориентирам. Поэтому у нас плюрализм, который очень часто отражает просто сумятицу в умах. В этом смысле наше состояние вполне понятно. Другое дело, что и зарубежная наука по своим причинам также находится, может быть, не в самом лучшем состоянии. Потому что постмодернистский вызов здесь произвел разрушительное воздействие на разные отрасли социально-гуманитарного знания. Мы же до постмодернизма еще не дошли, но боюсь, что когда мы попадем под каток постмодернизма, он может пройтись по нам не менее разрушительно, чем наши общеполитические причины. Это один момент. Далее, как я уже говорил, к сожалению, самое негативное в произошедших переменах заключается в упадке, прежде всего, теоретических и методологических исследований. Поэтому неслучайно я позволил себе определение «теоретико-методологическое одичание». Если мы посмотрим на то, какие концептуальные основания у нас сегодня используются, то это либо заимствования с Запада, причем привнесенные сугубо механически, без каких-то корректив, либо поиски своих оригинальных идей, которые не дают результата. Исходя из этого, я полагаю, что для того, чтобы выйти из кризиса, желательно обратить внимание на разработки в области теории. Это при том, что у нас уже произошла определенная дискредитация теории как таковой, при том, что сегодня грантовая система ориентирует совершенно на другие цели и интересы, при том, что теорию сегодня вообще трудно где-либо изучать. Поэтому, что касается перспектив нашей науки, тут есть о чем подумать. Те действия, которые предпринимаются в области реорганизации науки в сторону ее упорядочивания, т.е. сокращения, с одной стороны, являются реакцией на тот разброд и сумбур, который переживает наука, а с другой, ставят под вопрос ее будущее. Если позволите, в связи с этим, я хотел бы остановиться вот на каком вопросе. Он касается характера институциональной организации науки. Как известно, за рубежом сложилась традиция, в соответствии с которой наука в основном разрабатывается в университетах. В нашей же стране, наука была уделом академических учреждений, в то время как университеты и другие вузы занимались своими учебными задачами. Однако сейчас мы также пытаемся перенимать западную модель, когда Академия активно интегрируется с университетами. Может быть, как стратегия это обоснованно, но на данном, тактическом, этапе, мне кажется, тут есть большая опасность. Опасность эта связана с рисками, которые влечет за собой преподавательская деятельность как таковая. Ведь она, в первую очередь, сопряжена не с поиском нового знания, а с трансляцией знания уже полученного. Отсюда создается уверенность, что знание, которое мы передаем, это наше собственное знание. В итоге передача «чужого как своего» тормозит собственно исследовательские тенденции. Наконец, особая опасность существует для вузов, которые, подобно нашему, находятся на периферии. В силу низкой конкурентности, ограниченности числа специалистов, наряду с преподавательским синдромом, появляется провинциальный синдром, когда нарушается баланс между нашими реальными возможностями и компетенциями и теми задачами, которые перед нами ставит окружающая среда. В результате возникает такое особое состояние, как иллюзия свободы заниматься любыми проблемами, которое препятствует развитию науки как таковой. Поэтому попытка очень быстро сделать науку достоянием университетов может привести к опасным последствиям. Необходимо предпринять продуманные действия для того, чтобы университеты смогли организовать полноценные научные исследования. Поскольку перед нашим университетом поставлены очень сложные задачи: выйти на мировой уровень и сделать это, прежде всего, за счет научных разработок – то мы не достигнем этой цели, если у нас в университете не будут предложены оригинальные сильные теории, которые смогут заявить о себе и успешно конкурировать с ведущими научными центрами, в т.ч. зарубежными. Без этого, на мой взгляд, никакого прорыва у нас произойти не может. Киреев А. А.: И все-таки процесс реформирования нашей науки и образования уже идет, и он идет в основном по западным образцам. Поэтому очень важно разобраться с тем, что представляет собой сама западная наука. У вас был значительный опыт сотрудничества с западными учеными, из Европы и США, поэтому вы можете об этом судить не понаслышке. Какие бы вы выделили сильные и слабые стороны социогуманитарной науки на Западе? И, исходя из этого, что мы могли бы взять оттуда, а от чего желательно было бы отстраниться? Кузнецов А. М.: Опять-таки хотел бы обратить внимание на глобальность вопроса. Конечно, мой опыт в этой сфере гораздо скромнее, и я буду говорить только о том, о чем могу судить. Прежде всего, знакомство с зарубежной наукой состоялось у меня еще в Ленинграде. В Ленинградское отделение Института археологии постоянно приезжали зарубежные специалисты, и можно было с ними непосредственно общаться, слушать их доклады. Где тогда еще можно было увидеть Д. Сонневиль-Борд – супругу французского археолога с мировой известностью Франсуа Борда, специалистов из Индии, Польши, Германии, США? Уже такое общение позволяло получить некоторые представления о том, что творится в мире. На лекциях и семинарах в Ленинградском университете, преподаватели которого имели доступ к зарубежной литературе, также можно было узнать о каких-то разработках, ведущихся за рубежом. Причем, дебаты по научным проблемам иногда здесь продолжались до полуночи. Что касается первого моего участия в международном конгрессе, то это памятный 1979 г., когда у нас в Хабаровске состоялся XIV Тихоокеанский научный конгресс. Это было грандиозное научное мероприятие с весьма широким представительством. Здесь я впервые познакомился с профессором Робертом Аккерманом, с которым затем поддерживал долгое и плодотворное сотрудничество. С той поры достаточно регулярно посчастливилось участвовать в других международных конгрессах в нашей стране, например, Конгрессе Ассоциации по изучению четвертичного периода (ИНКВА) 1982 г. в Москве. О возможности же выезда за рубеж нам в Приморье не приходилось и думать. Перестройка такие возможности открыла. Первая моя поездка за рубеж при поддержке японских коллег состоялась в 1996 г., и это была Япония. Позднее, поскольку я был рекомендован и стал членом Европейской ассоциации социальных антропологов (IASA), то, хотя сначала и пропустил конгрессы в Барселоне и Кракове, но затем смог посетить конгрессы в Копенгагене, Вене и Бристоле. Довелось участвовать и в других конференциях, прежде всего, в Японии. Кроме того, наш университет получил возможность осуществления поездок по зарубежным грантам, поскольку мы в свое время выиграли в серьезной борьбе связанный кредит Международного банка реконструкции и развития на развитие политологии в России. Благодаря этому кредиту стали возможными стажировки на отделениях политологии ряда университетов Канады, США и других центров. Это были очень важные моменты, которые способствовали моему профессиональному становлению как антрополога, а затем политолога и международника. Я считаю, что когда я получил приглашение участвовать в гарвардском проекте «The American beginnings» («Американские начала»), а затем в европейском проекте «Other peoples anthropology» («Антропология других народов»), где речь шла об исследовании антропологических традиций за пределами англосаксонской традиции, то это были важные моменты моего профессионального становления. Без таких поездок, без участия в таких мероприятиях, без возможности свободного общения с коллегами, без доступа в библиотеки разных университетов, я думаю, ни о каком серьезном включении в другие области науки – антропологию, политическую науку, международные отношения – не могло быть и речи. Еще раз повторюсь, наука – явление международное, интернациональное по своей природе, она не может быть местечковой. В ходе этих поездок сложилось также определенное представление о том, как организована зарубежная наука. Прежде всего, хотелось бы отметить высокую соревновательность, характерную для нее. Поскольку там антропологическая, политологическая и международная отрасли развиты в достаточной степени, то за получение места в университете, в исследовательском центре, конкуренция везде высока. Поэтому, скажем, когда Университет Вашингтона в Пулмане объявляет конкурс на преподавательскую вакансию на отделение политических наук и получает 200 с лишним заявок от претендентов, то понятно, каким образом у них идет комплектование университетских преподавателей. Кроме того, обращает внимание и определенная система стимулирования участия зарубежных коллег в исследовательской деятельности. Это система рейтингов за публикацию статей в научных журналах. Затем участие в различного рода важных научных форумах, конференциях, конгрессах. Зарубежный университет считает за честь принять у себя ту же конференцию Европейской ассоциации социальных антропологов. Это момент престижности. Не случайно многие новые университеты Великобритании, Франции и Германии стремятся привлечь к себе такую международную конференцию, конкурируют между собой. А организаторы конференций получают преференции в виде каких-то повышений – в материальном, в должностном плане и т.д. Поэтому науке там уделяется внимание. За счет этой большей конкуренции и больших возможностей стимулирования она имеет определенные преимущества. Вместе с тем, достоинства, как всегда, имеют и свои негативные стороны. Большое количество подготовленных специалистов делает еще более очевидной тенденцию к углублению специализации. Многие исследователи здесь занимаются очень конкретными, узко профессиональными вопросами. Степень разобщенности среди специалистов, казалось бы, близких по профилю, просто удручает. Скажем, прихожу в очень небольшой офис в Беркли, где рядом сидят археологи и антропологи, и выясняется, что они между собой вообще никак не общаются. Это для нас, конечно, пример несколько странный, потому что у нас, там, где есть возможность общения, представители разных областей все-таки стремятся к тому, чтобы общаться друг с другом, взаимодействовать. Не удивительно, что сегодня на Западе наблюдается примерно такое же отношение и к теории. Поскольку уровень развития науки и количество задействованных в ней специалистов здесь намного выше, чем у нас, то есть и специалисты, которые занимаются теорией. При этом связь между теоретиками и практиками оказывается очень относительной. Если ты теоретик, то ты занимаешься теориями, если ты практик, ты занимаешься практическими вопросами, а о полноценной интеграции и взаимодействии, как правило, говорить не приходится. Такое состояние, на мой взгляд, также не очень благополучно. И, может быть, у нас еще есть шанс показать, в т.ч. и нашим зарубежным коллегам, пример, каким образом можно организовать нормальную научную деятельность, которая включала бы в себя как теоретические, так и сугубо практические исследования. Киреев А. А.: Можно ли в этом плане применить к нам теорию «слабого звена» в системе, которое может сделать рывок? Кузнецов А. М.: Да, и «кто были последними, те будут первыми». Может быть, это звучит несколько самонадеянно, но мне кажется, что мы, во-первых, должны понимать, что при том, что наука – это явление универсальное, никто не отрицает существования разных научных традиций и разных национальных научных школ. На собственном опыте пришлось убедиться, что, скажем, англосаксонская научная традиция, и конкретно, американская, занимающая лидирующие позиции, заметно отличается от традиций, которые существуют в той же Франции. Есть своя специфика в Германии. Точно также свои национальные особенности рассмотрения научных проблем есть и у нас в стране. Правда, мы сейчас пытаемся их всячески от себя отбросить, отказаться от своего наследия, но, тем не менее, от него мы никуда не денемся. В этом смысле, если мы стремимся стать полноценной научной школой, которая может претендовать на место в международном научном сообществе, мы должны понимать, что нам пока не угнаться за технической оснащенностью, за материальными возможностями зарубежных коллег. Но если мы сможем сделать интеллектуальный рывок в теоретическом отношении, тогда, быть может, у нас есть шанс сказать это свое весомое слово. Киреев А. А.: Тогда в продолжение этой темы об ученом сообществе (или сообществах), такой тоже достаточно абстрактный вопрос, относящийся, может быть, больше к философии науки. Какова роль в процессе научного исследования отдельного ученого и научного коллектива? Все-таки продукт науки создается в большей степени индивидуумами или научными коллективами, школами и институтами? И момент формальной организации. Насколько правильность построения такой формальной организации науки влияет на ее эффективность, на ее производительность? Кузнецов А. М.: Глубоко же мы с вами зашли. Но, действительно, от этой проблемы сегодня уйти уже невозможно. Ситуация здесь достаточно примечательная. В соответствии с теми традициями, о которых я говорил, на Западе, особенно там, где идея ценности индивидуума является общепризнанной, вопрос ставится однозначно – двигают науку определенные индивидуумы, которые должны себя проявить, и которым надо создавать условия для того, чтобы они могли и дальше двигаться в своем поиске. Поэтому нетрудно заметить, как за рубежом относятся к тем, кто является лауреатом и к другим ученым, доказавшим свои высокие возможности. Пример – популярность того же Самуэля Хантингтона. Точно также ко вторым, третьим лицам отношение более прохладное. В соответствии с нашей давней традицией, сложилось четкое убеждение, что двигают науку только коллективы, что индивидуумы ничего не решают, что заслуги отдельного человека – это ничто, а самое главное – это результат всего коллектива. Конечно, я намеренно утрирую ситуацию, но, тем не менее, такие различия, безусловно, существуют. Мы в значительной степени страдаем от игнорирования того, что личности в науке очень различны по своему потенциалу, и подлинно талантливый ученый нуждается в определенных преимуществах. Эта идея у нас прививается с трудом. С другой стороны, идея о том, чтобы достигать результата за счет лучшей координации деятельности разных специалистов, может иметь свои положительные стороны. Мне кажется, что эта проблема не имеет однозначного решения. Однако ясно одно, что современная наука, хотим мы того или нет, превратилась в массовое явление, а не удел каких-то героев-одиночек. Поэтому без институционализации научного сообщества сегодня не обойтись. Весь вопрос заключается в том, каким образом эту институционализацию проводить. Здесь, на мой взгляд, очень большая ответственность падает на первых лиц в научных коллективах. Потому что, от того, насколько они сами компетентны, насколько широк их кругозор, насколько у них есть понимание перспективы развития своей отрасли, во многом будет зависеть успех и всего коллектива. Если нет четко поставленных приоритетов, задач, ориентиров, трудно организовать деятельность десятков, сотен людей, участвующих в научном поиске. В то же время вполне очевидно, что выдающиеся научные достижения – это всегда дело отдельных личностей, а не коллективных усилий множества людей, поскольку существуют определенные сложности с организацией взаимодействия. Поэтому, на мой взгляд, вопрос пока не имеет однозначного решения и здесь есть над чем еще думать. Вопросы научного менеджмента, организации – это то, с чем раньше не приходилось иметь дело научному сообществу, а теперь они вызрели со всей определенностью. Наука – это занятие и рутинное, когда нужно выполнять подготовительную работу, и творческое. Но подлинные взлеты в науке – это некая загадка. Непонятно откуда, как и почему, но появляется человек, который начинает выдвигать идеи, которые кажутся, может быть, странными, а потом оказывается, что они и есть то откровение, к которому мы все так стремились. Киреев А. А.: В завершение разговора – традиционный вопрос относительно того, какие научные проблемы интересуют вас сейчас, и над чем вы в настоящее время работаете. Кузнецов А. М.: Я думаю, уже понятно то, что меня интересуют проблемы теоретико-методологического плана и, в первую очередь, проблемы полидисциплинарных исследований, т.е. синтеза разных научных дисциплин. Потому что, по моему глубокому убеждению, время простых решений кончилось. Мы вступили в новую фазу, когда сталкиваемся с более серьезными и сложными вызовами. Для адекватного ответа на них мы должны иметь соответствующий научный инструментарий. Создать его можно только на основе новых идей, теорий, концепций. Поскольку нами управляют не какие-то там высшие силы, но мы во многом пожинаем результаты своих собственных усилий, то проблема участия человека, деятельности человека, причин, в силу которых мы действуем тем или иным образом, или воспринимаем действительность так или иначе, становятся наиболее важными проблемами. По мере сил стараюсь в этом участвовать. Хотелось бы в качестве своеобразного заключения сказать следующее. Общаясь с коллегами из Москвы и Петербурга, можно отметить, что, помимо всего прочего, возможности для профессионального становления и развития там существенно лучше. В наших же дальневосточных условиях становление ученого связано с преодолением гораздо больших трудностей. Теперь, к счастью, появился Интернет, который отчасти позволяет включиться в международное научное пространство. Вместе с тем у нас есть определенное преимущество. Оно заключается в том, что у нас в силу низкой профессиональной конкуренции, узкоспециализированной, подчеркну, конкуренции, есть возможность этого свободного дрейфа по разным областям знания. Поэтому, оценивая свой путь, я понимаю, что, наверное, в Москве или Петербурге перейти из археологии в антропологию, а потом в политическую науку и международные отношения было бы намного сложней. У нас это, к счастью, пока еще возможно. Так что Иосиф Бродский был прав, хотя он имел в виду другого персонажа, что «если уж довелось в империи родиться, то лучше жить в глухой провинции, у моря». Странно, но в моем конкретном случае, это оказалось вполне оправданно. Однако хочу еще раз подчеркнуть, что полноценно участвовать в диалоге и с отечественными специалистами, а тем более с зарубежными, могу только потому, что владею не конкретно-профессиональной, а именно общей теоретико-методологической подготовкой, которая позволяет в более короткие сроки усваивать предметную специфику той или иной дисциплины. Поэтому не уверен, что на этом мой дрейф закончится. Не исключаю, что, может быть, в ближайшем будущем еще придется что-нибудь кардинально поменять в своих научных интересах и в своей деятельности. Киреев А. А.: Спасибо за интервью!
|