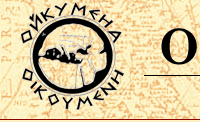
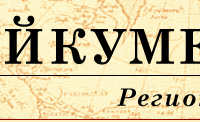
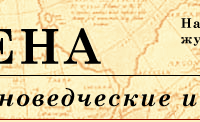
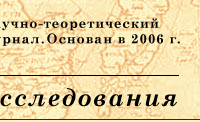
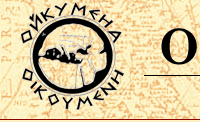
|
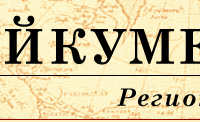
|
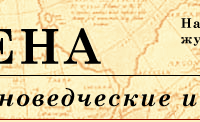
|
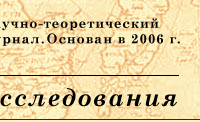
|
|
Окончание, начало см. здесь Брумфилд У. К.
Это ознакомительная текстовая версия, За восточными берегами Байкала слияние русской и местных культур - практически, бурятов - принимает ещё более разнообразные формы. Первые русские поселения к югу и востоку от озера Байкал на территории, известной как Забайкалье, или, ещё шире, Даурия, появились в середине XVII века. На этом раннем этапе казаки и служивые люди разведывали новые торговые пути в Китай, а также стремились собирать дань в форме пушнины (главным образом соболий мех) у местных жителей, бурятов и тунгусов. Первая русская крепость (острог) на этой огромной территории была построена в 1648 году и реки Баргузин за 40 километров от восточных берегов озера Байкал. Однако направление заселения русских в западном Забайкалье вскоре переместилось к югу вдоль более удобной реки Селенги. Селенга, берущая своё начало в Монголии, являющаяся самой большой рекой, впадающей в озеро Байкал, с XVII по XVIII век служила главным каналом для торговли и расселения на восток. Стало очевидно, что основной стратегический пункт расположен на Селенге в месте её слияния с Удой, и в этом месте, на крутом берегу над соединяющимися реками, в октябре 1665 года была построена Удинская крепость, служившая зимовьем [35]. В последнее десятилетие XVII века важность Удинского поселения как места торговли зерном возросла благодаря размерам крепости вопреки номинальному превосходству Селенгинской крепости (см. ниже), расположенной ближе к китайской границе. Нерчинский договор, заключенный между Россией и Китаем в 1689 году, предусматривал уход России с обширных территорий Амурского бассейна, но делал более устойчивым положение таких русских поселений, как Удинск, который получал определенную выгоду не только от торговли, но и от поездок высокопоставленных дипломатов в Китай [1, с. 72-75; 41]. Первая церковь поселения, посвященная Всемилостивому Спасу, была построена из дерева в 1696 г. Возрастающее значение Верхнеудинска, как он стал известен в XVIII веке, также базировалось на его роли административного центра западного Забайкалья и его расположении у одного из главных восточных торговых путей от Иркутска к городам Кяхтинская Слобода и Тро- ицкосавск у монгольской границы. К 1780 г. в городе проходили по две торговые ежегодные ярмарки, в конце зимы и в середине лета. Как и для других провинциальных русских городов времен правления Екатерины Великой, для Верхнеудинска был разработан детальный план, одобренный в 1793 г. [22, c. 17]. Хотя план был изменен в 1839 году, многие из его особенностей сохранились и поныне. Растущая экономическая активность Верхнеудинска в конечном итоге сделала возможным строительство первой каменной церкви, Кафедрального собора Одигитриевской иконы Богоматери, начатое в 1741 г. неподалеку от одноименной деревянной церкви, построенной в начале XVIII века. Как и в других случаях, типичных для строительства каменных церквей от Соликамска на Русском Севере до Енисейска и Иркутска, церковь возводилась в два этапа (фото 7). Нижняя церковь (использовавшаяся зимой) была завершена в 1770 г. Ее алтарь был посвящен Богоявлению. Верхняя церковь с главным алтарем была освящена только в 1785 г. [10, c. 28-29; 23, c. 27-29; 22, 21-25]. Неудивительно, что основной план и детали экстерьера Собора Одигитриевской иконы связаны с более ранними церквями Иркутской области, такими как церковь Спасa Нерукотворного в Иркутске и, ещё более тесно, с церковью Спаса Нерукотворного в Урике и церковью Архангела Михаила (Св. Харлампия) в Иркутске, - все - явные примеры «Сибирского барокко» [28, c. 119-120]. Двойные фронтоны окон собора и ярко выраженные наличники характерны для церковного зодчества XVIII века восточнее Урала, в том числе для региона Енисея. Также, к чертам барокко относятся волюты, соединяющие барабаны под главным куполом и куполами алтаря, равно как и овальные окна, расположенные на уровне крыши. Восточные элементы, однако, заметнее в другом примере православной церковной архитектуры в Бурятии конца XVIII века: у собора Преображенского монастыря, расположенного в селе Посольское на восточном берегу озера Байкал (фото 8). Вопрос происхождения монастыря осложнен дискуссиями о расположенном неподалеку Троице- Селенгинском монастыре, монахам которого была дана земля, право на рыбную ловлю, а также прилегающие воды Байкала как часть их владений. К концу XVII века казначей этого монастыря Макарий построил маленькую часовню в память об убитом в 1661 году Ерофее Заболотском, царском эмиссаре в Монголии, чей отряд был разбит местными бурятами [33; 23, с. 17-18]. С того времени это место стало называться «Посольское». Однако Игнатий, митрополит Сибири и Тобольска, решил расширить памятник и в 1770 г. подписал грамоту, оговаривавшую строительство алтаря дополнительно к часовне. Так возникла церковь, посвященная Иконе Знамения Богоматери. Содержание этой церкви привело к появлению отдельного монастырского института, поддержанного двумя указами (в 1707 и 1713 гг.) Петра I, направленными против оппозиции Троицкого монастыря, который противился уменьшению своих владений [22, с. 122-123]. В этот период новый монастырь в Посольском получал активную поддержку со стороны Григория Осколкова, известного купца, связанного с торговлей в Кяхтинской Слободе [23, с. 18]. Осколков, похороненный в монастыре в 1714 г., оставил значительные средства, в том числе 300000 кирпичей и другие материалы, на постройку собора, посвящённого Преображению. Однако проект каменной церкви был остановлен, когда Петр I запретил строительство каменных храмов за пределами его новой столицы, Санкт-Петербурга [22, с. 123]. Поэтому церковь была построена из дерева и освящена в 1722 г. Парадоксально, но судьба Преображенского монастыря изменилась к лучшему после пожара в 1769 г., разрушившего обе его деревянные церкви, как и часть монастырских построек. Несмотря на падение статуса монастыря во времена правления Екатерины Великой, были найдены средства на возрождение проекта каменной церкви, в большой степени благодаря тому обстоятельству, что кирпичи, запасенные Оскол- ковым шестьюдесятью годами ранее, были все ещё пригодными. Строительство Преображенской церкви началось в 1773 г. и завершилось в 1778 г., вероятно, в нем принимали участие каменщики из Иркутска, откуда можно было попасть в монастырь, переплыв Байкал. План Преображенской церкви отражает типично сибирскую композицию, состоящую из зимней церкви, расположенной на первом ярусе (посвященной Иконе Знамения), и верхней церкви с главным алтарем и двумя рядами окон. От апсиды до основной структуры, от трапезной до колокольни — все компоненты и их пропорции имеют сходство с аналогичными элементами Одигидриевского Собора в Верхнеудинске. Орнамент фасада, однако, имеет другой порядок. К сожалению, Преображенская церковь была серьезно повреждена в советские времена, когда купола над обеими главными структурами, апсида и вся верхняя часть основной структуры были разрушены. Тем не менее, от фасадов осталось достаточно, чтобы увидеть сложность каменного орнамента церкви. Даже Одигидриевский Собор уступает ему в своем орнаменте вопреки общему сходству. Окна Преображенской церкви с терракотовыми пилястрами и соединенными фронтонами над вторым уровнем, завершаются жестким, хотя и наивным, зубчатым орнаментом, который разделяет два уровня всей структуры. Подобные мотивы присутствуют и у других церквей в бассейне Енисея, особенно в самом Енисейске. Другие мотивы фасада связаны с церковной архитектурой в Иркутске. Например, сложные терракотовые фигуры по углам каждого из структурных компонентов в Преображенской церкви напоминают стилизованные гуманоидные фигуры по углам церкви Воздвижения Креста. Самая замечательная особенность Преображенской церкви - это её возвышающийся западный портал (фото 9) с уникальной замысловатой конструкцией. Здесь есть прямое сходство с такими енисейскими памятниками, как Троицкая церковь, чье строительство было начато в 1772 г., экстерьер был завершен в 1776 г., интерьер - в 80-е гг. XVIII века [32, c. 99-101; 8, c. 43-45]. Кроме элементов церковного зодчества Вологды и Урала, Троицкая церковь включает в себя и характерные особенности, присущие как Восточной, так и Западной Сибири. Хотя эта прекрасная церковь было значительно разрушена в советский период, а то, что осталось, используется под склад, сохранившаяся структура имеет отчетливые оконные бордюры с треугольными фронтонами, которые, возможно, несут в себе азиатские мотивы. Каково бы ни было сходство между западным порталом в Посольском и сохранившимися фрагментами западного фасада Троицкой церкви в Енисейске, для храма в Посольском характерна более пышная техника бордюров, кульминирующая в резном фронтоне над дверью. Эта комплексная форма узора встречается и у окон основной структуры церкви Воздвижения Креста в Иркутске. Северный и южный порталы иркутской церкви, однако, решены иначе - замечательным, по-своему, образом - благодаря использованию детального терракотового орнамента. Кроме того, первоначальный западный портал иркутской церкви был частично скрыт позднейшими перестройками и добавлениями. Таким образом, портал Преображенской церкви в Посольском весьма необычен благодаря тому, что он хорошо сохранился, а также благодаря декоративной сложности. Западная сторона ансамбля - портал, резные рамы, рельефные фигуры с каждой стороны, - производит впечатление, что он далек от православной архитектуры. Действительно архаическая сила замысла экстраординарна, она словно творит преддверие храма, где служат некий неясный обряд. Как и в случаях наличия соответствующих форм и орнаментальных мотивов на фасадах других церквей в бассейне Енисея, в Посольском также существует вероятность восточного источника, хотя Преображенской церкви недостает таких явно буддистских элементов, как колесо Дхармы, имеющихся у церкви Воздвижения Креста. В действительности, буддизм в его индо-тибетском варианте, - не единственный возможный источник орнаментов, особенно ввиду культур бурятов и якутов. В то же время вопрос архитектурного происхождения храмов в Посольском остается вопросом спекуляции. Один специалист недвусмысленно заявил, что Преображенская церковь и церковь Воздвижения были построены одним и тем же архитектором, утверждающим, что внимательное изучение архитектуры Преображенской церкви и церкви Воздвижения Креста позволяет сделать заключение, что они были построены одним зодчим, что в архитектуре Преображенской церкви мотивы, которые были развиты в поразительном иркутском храме, не только повторяются, они переработаны по-новому, и, главное, использованы с убедительной экономикой и логикой [22, c. 126-127]. Все же, при чисто формальной оценке, западный, основной, фасад церкви в Посольском ближе к фасаду Троицкой церкви в Енисейске. Возможно ли, что один и тот же мастер (или мастера) участвовали в строительстве всех трех церквей - в Иркутске, в Енисейске и в Посольском? И откуда этот мастер (или мастера) так хорошо знали азиатский орнамент? Безусловно, водный путь Енисей-Ангара-Байкал служил проводником для идей, людей и материалов, в то время как река Селенга продолжала этот путь к Монголии и Китаю. Но в отсутствии документальных свидетельств это мнение остается гипотезой, учитывающей возможность орнаментального влияния со стороны буддизма и других азиатских источников. И все же допущение такого влияния волне рационально, особенно в виду первоначальной миссии Преображенского монастыря, призванного распространять православную веру среди бурятов. В этом отношении вход в Преображенскую церковь мог бы быть поразительным символом православия в Азии [23, с. 2[3]. Один из позднейших примеров восточных мотивов в орнаменте фасадов храмов XVIII века относится к Покровской церкви в Красноярске, старейшему из сохранившихся памятников в городе. Строительство церкви было начато в 1785 г., два боковых алтаря завершены в 1790 г., однако главный алтарь был освящен лишь в 1795 г. [37, с. 157]. Главная структура церкви кульминирует в вытянутом барабане и куполе. Но внешний фасад, покрашенный в красный цвет с белыми деталями, украшен внизу значительным по размеру орнаментом, который, опять же ясно указывает на восточные корни и включает формы и ступы, и лотоса [7, с. 314-321]. Богатство эклектической архитектуры XIX в. в Иркутске лучше всего, вероятно, видно по красочной церкви во имя Казанской иконы Божьей Матери (не путать с разрушенным главным иркутским собором, посвященным ей же). Получившая пожертвование от купца Александра Сибирякова и построенная в 1885 — 1892 гг. Казанская церковь отражает пышный вариант русско-византийского стиля, обычного для позднего имперского периода [20, с. 73-74; 15, с. 120-121]. Мощные оранжевые стены храма, с чётко выраженными формами и увенчанные бело-голубыми клетчатыми куполами, напоминают что-то, стоящее ближе к британскому раджу в Индии XIX в., чем к типично русским храмовым постройкам того же периода. Цвета стен похожи на красный песчаник, применявшийся в так называемом индо-сарацинском стиле, где тоже часто использовались разнообразные полихроматические купола [48, с. 112-120]. Сравнение становится ещё более уместным, если принять во внимание близость Иркутска к азиатским странам. Как конкурирующая имперская сила Россия, безусловно, знала о британской манере индийского правления в Индии и примерах использования архитектуры в том стиле. И вне зависимости от вопроса идентичности Казанской церкви зодчий (вероятно, учившийся или живший в Санкт-Петербурге) мог видеть опубликованные иллюстрации британской имперской архитектуры в Индии. Действительно, церковное строительство в Сибири во все возрастающих объемах, даже до Транссибирской железной дороги, являет сходное использование внушительных, исполненных символизма архитектурных форм как способ установления государственного присутствия на обширной территории в Азии. Данный обзор орнаментальных форм на фасадах сибирских церквей (преимущественно XVIII столетия) демонстрирует возможные азиатские корни некоторых из наиболее явных мотивов. В частности, традиционная восходящая форма ступы с остроконечной заостренной формой, похоже, использовалась и во фронтонах окон, и в орнаменте фасадов между окнами. Более того, вероятно, эти мотивы, не являясь признаком принятия буддизма, являются чисто орнаментальными и возникают благодаря интенсивным торговым контактам между сибирскими городами (особенно расположенными у монгольской границы) и Китаем. Тем не менее, специфические формальные источники ближе не к китайской храмовой архитектуре, а к монголо-тибетской, которая, в свою очередь, унаследовала многое от индийских форм. Эти вопросы требуют дальнейшего исследования в интересах углубления нашего знания о взаимоотношениях русской и азиатской культур. Литература
1. Артемьев, А.Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII-XVIII вв. Владивосток: ДВО РАН, 1999.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||